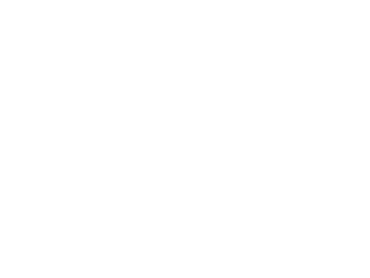Его работами могут похвастаться ведущие музеи мира. Тридцать лет назад киевлянин Арсен Савадов вместе с Георгием Сенченко создал «Печаль Клеопатры». Полотно назвали отправной точкой современного украинского искусства.
В интервью Realist’у самый скандальный отечественный художник вспоминает лихие «девяностые», делится секретами вдохновения, анализирует состояние украинского искусства и общества.
— Ты зачем обувь снял? — возмущается хозяин квартиры.
На полу — куски картона, сшитые скотчем в один огромный, местами заляпанный краской ковер. Из бумбокса на подоконнике льются звуки Lounge FM. Савадов (позже он признается, что без ума от «Битлз») выключает приемник без сожаления. Закуривает сигарету. Усаживается на высокий стул. За окном высотки подмигивают золотом луковицы Никольского собора.
— Тридцать лет уже прошло? — не может понять Арсен, затягиваясь. — А, ну да! «Клеопатру» в 87-м, значит, мы создали. А шахтерам (скандальный фотопроект «Донбасс-Шоколад», изобразивший горняков в балетных пачках. — R°), получается, двадцать в этом году будет.
Через час у художника мероприятие в Украинском доме. Но он не суетится.
— Заболотная (Наталья Заболотная, экс-руководитель Мистецького Арсенала. — R°) предложила отстегивать налоги от продажи сигарет и алкоголя, — рассказывает он о повестке дня. — Чтоб было, как во Франции. Чтобы был некий Культурный фонд, распределяющий деньги на правильные гуманитарные проекты. Но инициативу вдруг стали продвигать под эгидой Порошенко. Получается, опять движение сверху, а не снизу.
Савадов деловито размышляет о связи государства с табачно-алкогольными синдикатами; о Министерстве культуры и его дочерних предприятиях; о «мальчиках», рулящих этими фирмами, через руки которых проходят бюджетные деньги.
— Обслуживают нас так, что после выставки остаются 100 грн на обратный билет, — говорит Арсен, вдавливая окурок в пепельницу. — Ладно, задавай свои вопросы!
О ПРОРЫВЕ И 90-Х
В 80-х, 90-х в искусстве порыв был, прорыв. Развал СССР дал потенциальную силу. Я дружил с Агузаровой, Цоем. Над нами гэбисты стояли, заставляли стучать, а мы от них линяли. Собственно, мы стояли у руля развала этого бездарного Союза. «Клеопатра» ведь висела не в каком-то зажопье, а в Манеже, напротив Кремля. Мы создали образ ни о чем. Параллельный образ.
Я забросил кисточку на много лет не потому, что не хотел рисовать. То было время последних «малиновых пиджаков». Художники прожили неприятный кусок жизни, когда богачи считали их го*ном. Устраивали банкеты, на которых мы были лишь как развлечение: запустят на пять минут, в перерыве между проститутками. «Мерсы», пиджаки, охрана, трупы, сгоревшие киоски, раздел территорий — в таком обществе говорить языком Клода Моне невозможно. Пришлось взять в руки камеру. Камера — это документ. Против документа «пиджак» не попрет.
Как-то на выставке в Москве один браток пришел с любовницей, негритянкой в короткой юбке. И вот она смотрит на «Книгу мертвых» (фотопроект с трупами. — R°), спрашивает: «Из чего это сделано?». Он ей, шутя, отвечает: «Из чего-чего? Из хлебушка пацаны слепили!». С такими людьми языком эстетики нельзя разговаривать. Только документ.
Шахтерами я закрыл тему. Это как программное произведение. После меня, что бы ты ни выдумал, так шахтеров уже никто не снимет. А «Книга мертвых» была Одиссеей. Если ты не заплыл в Царство мертвых, не прошел Сциллу и Харибду, то и путешествия никакого не было.
О СОВРЕМЕННОСТИ
Наше искусство осталось там, где и было 30 лет назад. Потрясающая страна, много прекрасных художников. Но все мечтают уехать. В целом инфраструктура не состоялась, она по-прежнему инфантильна. Искусство потребляют власть имущие и богачи. Их приоритеты близки к салону, украшательству.
Понимание красивого строится на поездках в Швейцарию, Амстердамы, Лондоны. Там, в красивых витринах висят красивые картины для таких же, как они, красивых буржуа. Та интенция, культурная рефлексия, которая была 25 лет назад, сошла нанівець. Есть куча салонных ребят, которым кажется, будто они создают искусство. Но это искусство «за диваном». У богатого за диваном есть пустая стенка, которую нужно чем-то заполнить.
На Западе инфраструктура для искусства есть, там все четко описано, структурировано. Есть галереи салонные, есть экспериментальные. Есть фонды и профильные организации, куда ты не зайдешь с цветочками и всякой х%@ней. Там и метро построили, когда у нас еще крепостное право было.
О ВОЙНЕ И ПОЛУТОНАХ
Я — не Гийом Аполлинер. Пикассо не пошел на войну. «Когда пушки гремят, музы молчат» — это не я придумал. Война — слишком очевидный повод для творчества. Как ты поверишь, что художник полез туда не ради славы? Когда я лез в шахту, делал «Книгу мертвых», кроме славы, там много чего было. Молодость: меня перло, интересовали какие-то лакуны, человеческие коллективы, хотелось что-то донести, искать, экспериментировать.
Если ты лезешь в войну, тебе нечего сказать. Война — удобная, спекулятивная тема. Вообще я — пацифист. Косил Афган, в дурдоме советском лежал. Три раза меня из института выгоняли.
О каких титанических сдвигах сейчас говорят, если полгорода ездит на «лексусах»? Идти их защищать? Да пошли они нах#й?! Пускай эти пи#@%асы идут в окопы, сами свои машины, свои заводы, дачи защищают. Пусть покажут пример, проявят инициативу.
Из-за войны уходят полутона. Только черное или белое. Свой, чужой. Мы становимся заложниками идеологической машины. Если будем поддакивать, нас не будут гнобить и убивать. Если не будем — начнутся проблемы. Мы привыкли к давлению. Андеграунд всегда был андеграундом. Но очень жаль, что народ отучился различать полутона.
О ШАХТЕРАХ
Образ шахтера в балетной пачке мне ближе, чем с гранатой и «калашом». Когда мы пришли в шахту, принесли совсем другой продукт. Мы, пусть даже в такой параноидальной форме, но возвеличили эту профессию. А потом туда пришли другие люди, которые вручили оружие.
Между лопатой и «калашом» небольшая разница. Победила банальность. Легче всего прийти к людям этой профессии, предложить оружие и войну. Для них это не проблема. Люди все рукастые, умелые и смелые.
О КРЫМЕ
Крым мы не получим обратно. Был там не так давно — отстой. Нет той гармонии, свободы, благополучия и равенства. Милиция на каждом углу, татары воют, бомжи на памятнике Пушкина спят. Крым был жирнее, сытнее, улыбчивее.
Раньше мы там общались со всей интеллигенцией — в Алупке, Воронцовке, Понизовке. А сейчас это какая-то посторонка. Нагнали из Мурманска, Бурятии отдыхающих, которые, кроме мерзлоты, ничего не видели. Вытопчут они этот Крым. Мы там бумажки, бутылки собирали, устраивали субботники.
Говорят, будто украинцы угробили Крым. Это чистый наклеп. При Украине ни одна картина Айвазовского не пропала, ни один причал не развалился, ни одна гора не обрушилась в воду. Да, возможно, косметики не так много было вокруг. Но была гармония. Татары цвели, русские с украинцами приезжали, с удовольствием оставляли там деньги. Все там трахались, делали, что хотели. Это была зона свободы. А сейчас зона присутствия властелина. Сейчас там пахнет, как в начале 80-х, когда Леня (Леонид Брежнев. — R°) умер.
О РОССИИ И КРАХЕ КОНЦЕПТУАЛИЗМА
Мы сделали все, чтобы разрушить вот эту жопу, в которой находились. А она все-таки жива. Беда в том, что столько русских концептуалистов и украинских художников пело о свободе, но в итоге пришел монстр. «Капуста» оказалась важнее. Крах концептуализма очевиден. На смену всем концептуальным играм пришел Путин (смеется).
Московский концептуализм очень долго боролся с украинской новой волной за место в пространстве. Им досаждал наш успех. Закончилось все тем, что они у себя под носом монстра пропустили. Я общаюсь с ними. У них там фанера полная. Гельман сбежал. Сколько лучших ребят воет в России от тоски! Художественной жизни нет. Возможно, сейчас пойдет кислород — выведут каких-то ребят искусственно на орбиту, за счет Трампа-Путина.
О КИЕВЕ И МАСОНАХ
Я родился в этом городе. В 22-й больнице, на бульваре Шевченко. Всю жизнь прожил на Гончара, Ярвалу — бывшая Большая подвальная. У моего папы была пятая или шестая в Киеве белая «Волга» ГАЗ-24. Я катал друзей по двору, ездили с папой, вел машину по пустому красивому городу. Этого не вернуть. Но то, что народ сегодня так мало зарабатывает, меня сильно обижает.
Озлобленность народа — первое, что бросается в глаза, когда я возвращаюсь в Киев. Эти три копейки, которые есть у людей, не дают шансов Киеву приблизиться к Нью-Йорку. Там по улицам ходят улыбающиеся люди. Не молодые, не потому что дурные и денег не надо. Те, кому сорок и больше. Они ходят с кайфом на лице. Неумение распределять ресурсы делает возможным и третий, и пятый, и десятый Майданы.
Масоны не зря придумали, как лечить зубы, изобрели обезболивающие, всю эту херню, метро, такси… У нас не хватает структуры. Не должно быть проблем на уровне зубной боли, на уровне питания. Прогресс, человеческие достижения не должны так долго и мучительно прививаться. Все должно быть быстрее, дешевле. Ну не может быть такого, чтоб не было какого-то лекарства от гепатита или сахарного диабета. В цивилизованном мире это уже давно решенные, б%@дь, проблемы!
О ПУБЛИКЕ
Художнику важно быть пОнятым. Но публика не является ведущей линией. Искусство для зрителя имеет свою нишу — Андреевский спуск, галереи, где человек явно не работает над собой, а работает над презентацией. Работа над собой — поиск ключа к потерянной свободе, уроню рефлексии выше, чем у тебя есть на данном этапе.
Западный зритель мне ближе, интересней по степени свободы. Речь о метафорах, которые читаются не всеми, а только образованными людьми. Депутатское искусство — это другое. Политики боятся свободы. Они любят банальную красоту и тяготеют к салонам. Западный зритель тяготеет к произведениям с метафорами, которые открываются не всем. Он покупает картину, потому что открыл для себя что-то, чем хочет поделиться с родными, друзьями.
Все, что я делаю, имеет сильный резонанс среди простого народа. Это удивительно. Я никогда прямо не тяготел к попсе. Но тот, кто владеет попсой, тоже большой профессионал.
Могу рисовать по-разному, воспитан серьезной профессурой. Но без народа ты на@#й никому не нужен. Эти три полосочки, два квадратика — люди ни#@я не понимают. Поэтому я занимаюсь фигуративом, а не абстрактным искусством. Я народ люблю. Мы в молодости обожрались этим эстетизмом. Хочется нормального, свежего вдоха.
ОБ ОТЦЕ
Папа был серьезной фигурой. Его работы висели в кабинете Брежнева. Для советского художника — настоящая вершина. У нас с ним постоянно были контры. Серьезный, сильный дядька. Подавлял меня, строил конкретно. Отец столько всего создал, написал. Против него я не мог сильно вякать. Папа всегда любил Анри Матисса. Но никогда не был коммунистом. Удивительно! Был пронизан всей этой романтической философией, всеми этими конными атаками, а коммунистом никогда не был. Свои самые провокационные работы я ему не показывал. Не знаю, может, какой-то фрейдизм в них и был.
О ВДОХНОВЕНИИ
Оно существует. Ты находишься в глубокой медитации по поводу того, что хочешь что-то сделать. Медитация должна подтверждаться эскизами, каждодневным рисованием. Вдохновение приходит только к тому, кто работает, а не нежится на пляже. Вдохновение — штука, которую нужно заслужить. Оно как мотивация, намерение. Даже если у тебя депрессия, ничего не получается, продолжай работать — и получишь три семерки. Боль и сомнения — тоже прекрасные качества для творчества. Но главное — готовность быть радиоприемником, быть всегда включенным, чтобы получить и передать информацию.
Сны играют важную роль. Секс тоже. Поэтому мы за секс, сны, рок-н-ролл, наркотики. Алкоголь вызывает агрессивность. Им вдохновения не добавишь. Он может сопутствовать вдохновению, но через алкоголь в него не зайдешь. На моих глазах много художников растаяло. Если ты постоянно бухой, то какой ты, на@#й, художник?!
Нужно постоянно что-то искать. Это мыслительный процесс, а не зрительный. Когда человек что-то изображает, это рефлексия. В журналах тоже есть картинки. Но у настоящего художника есть концепция. Художник — человек, которому постоянно есть что сказать.